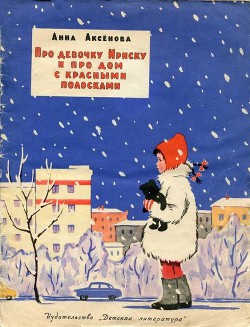что и этот сын, последняя ее надежда, тоже уедет, слегла. Бросить ее не хватило у него совести. Казалось, вот-вот умрет мать.
А пока мать болела, ходила к ним домой делать ей уколы сестричка. Уколы уколами, а заодно, глядишь, воды принесет, посуду помоет. Словом, помогала в доме. И люто краснела при встрече с Егором. Удивлялся он необыкновенной девичьей стеснительности, ничего другого ему в голову не приходило.
А мать оживала, стоило появиться Верочке…
Когда мать все-таки поднялась и, шаркая, стала бродить по дому, не раз посетовала она, что, будь у нее в доме такая невестушка, тихая, да заботливая, да ласковая, жила бы она и жила и умирать не хотела. Глядишь, и внуков еще понянчить довелось бы на старости лет.
Причитала она так и причитала, а сестричка все ходила да ходила, хоть надобность в ней уже вроде давно и отпала, да, видишь ли, подружилась она со старой женщиной, не расстаться никак. Взял Егор как-то четушку, выпил и, как пришла Верочка, глянул поглубже в ее черные глаза, черные, как вишни. Эх, вишни, Вишенки, вишневые садочки… Так глубоко заглянул, что у самого голова закружилась. И — прощай старая любовь, здравствуй новая! — повел в загс. Благо тогда не надо было никаких заявлений подавать: пришел да расписался.
Мать стала быстро поправляться, уже бойчее бегала по дому, голос ее шелестел радостью.
А Верочка сущий клад оказалась. В доме сразу появился сытый стол — мед, сало, яйца. Не сразу сообразил Егор Сидорович, откуда это. Даже не задумывался. Казалось, раз уж хозяйка золотая, значит, так и должно все быть.
Только однажды, после того как ушла из дома какая-то женщина, увидел он на столе завернутое в марлевую тряпочку сало. Эта тряпочка его и надоумила.
— Откуда сало? — догадываясь, спросил он.
— Маленький, что ли? — удивилась Верочка и похвасталась: — Это мне за работу. Ее сыну надо уколы делать, а по поликлиникам ходить некогда.
Егор стал возмущаться, говорить что-то о совести, о трудных временах, когда все должны помогать друг другу. Но Верочка и мать дружно набросились на него, стали объяснять ему, что ничего он не понимает, что ничего особенного в этом нет, она же не даром получает, за работу, а на деньги сейчас ничего не купишь.
Кончилось тем, что Верочка расплакалась, мать увела его в сени и там сказала, что Верочка ждет… «Ребенка ждет, не понимаешь, что ли? Уж мы-то с тобой как-нибудь, а ей питаться усиленно надо, родится рахитик или без пальчиков, всякое бывает, когда питание плохое».
Ошеломленный Егор притих. Да и что он мог возразить? На что хватило бы его зарплаты, если в коммерческом магазине килограмм сахара стоит шестьдесят рублей, и то — достань-ка. Как раз сегодня женщины в столовой говорили об этом. Он, дурень, еще подивился, как это у него дома все отлично улаживается. А вон как оно улаживалось-то.
Первое время пытался Егор держаться: не ел ничего, что казалось ему не в магазине купленным. Мать и Верочка, сговорившись, обманывали его, что мясо достали на рынке по колхозной цене, что яички выменяли на кофточку, на ту голубенькую, помнишь, тесная Верочке стала.
Но потом Верочка применила испытанный прием: расплакалась и заявила, что если Егор не будет есть, то и она не станет и будь что будет и с ней, и с ребеночком, потому что он себя хочет уморить назло ей, потому что не любит ее, она знает, а ей без него все равно не жить…
Махнул рукой Егор и сдался.
Мать любила невестку, как дочку родную, нарадоваться не могла. Никакой черной работы не позволяла делать, берегла ее золотые руки, чтоб не дай бог не попортила. И умирала спокойно — знала, что с такой женой Егор не пропадет.
Виктор, вопреки представлению Егора Сидоровича, не сидел нахохлившись, не хандрил, а гладил себе брюки и при этом еще что-то насвистывал бодренькое.
— А мать там с ума сходит, — сказал Егор Сидорович.
— Не знаю, чего она сходит. Умираю я, что ли? Другая за меня порадовалась бы.
— Так уж? — посомневался Егор Сидорович.
— Так уж. Впрочем, сам увидишь.
— Когда?
— Завтра с сыном приезжает.
— Куда? К нам?
— Ну нет уж. Я им комнату снял.
— Это правильно, — одобрил Егор Сидорович. — Ты поаккуратнее с матерью-то. Переживает очень. Правда, что много старше тебя? Или это она так… преувеличивает?
— Какое это имеет значение? — нахмурился Виктор. — Сказал матери в порядке информации, потому что Ване, сыну, скоро девять, так чтобы при встрече не удивлялась.
— Девять, — забеспокоился Егор Сидорович, — шутка ли? Был бы маленький — одно дело…
— И ты тоже? Познакомился бы для начала, а уж потом…
— Факт-то все равно остается: и старше, и с ребенком.
Виктор грохнул утюгом о подставку.
— Не понимаю: вы о себе хлопочете или обо мне? Если обо мне, то я уже сказал: мне ничего другого не надо.
Похоже, он готов был из-за этой женщины сражаться со всем миром, не то что с отцом-матерью.
— Что, действительно так уж хороша? — с любопытством спросил Егор Сидорович.
Виктор сразу отмяк, застенчиво заулыбался:
— Не хороша, а лучше всех.
И Егор Сидорович засмеялся. Черт побери, а ведь прав сын: радоваться за него надо!..
Через два дня — было как раз воскресенье — Виктор, вскочив ни свет ни заря, чтоб бежать к своей ненаглядной, спросил:
— Так как, мама, знакомить тебя с Ольгой?
Вера Николаевна, не разговаривавшая с ним эти дни, повернула к нему страдающее лицо.
— Если я тебя попрошу… как сына попрошу… подожди немного — всего какой-нибудь год, а тогда и решай. Сделай это для меня, для своей матери.
Виктор вроде как задумался. Стоял, смотрел в окно. Вере Николаевне показалось, что он колеблется.
— Это же пустяки — один год. Вроде маленького испытания.
— Я хотел подготовить, — медленно, продолжая смотреть в окно, сказал Виктор, — но раз так… мы уже год как женаты.
…Вера Николаевна сосала валидол, но нарыв в сердце не проходил, тянул, готовый вот-вот лопнуть, и это было страшно, потому что это означало бы конец… Она лежала и массировала сердце, повторяя про себя медленно и ритмично: «Мое сердце здоровое, хорошее, бьется ровно и четко. Мое сердце здоровое, хорошее».
Из соседней комнаты то и дело выглядывали то Егор Сидорович, то Виктор с перепуганными лицами.
«Отравлю», — вдруг мелькнула острая, как игла, мысль. До того острая, что даже царапнула под черепом. Царапнула и ушла. «Отравлю, а потом будь что будет», — вернулась
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)